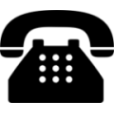Почти всерьез
Физика как наука и искусство
Карл Дарроу[1 - К. Дарроу – американский физик-теоретик, сотрудник «Белл телефон систем». С 1941 г. в течение многих лет занимал пост секретаря Американского физического общества.]. Из выступления на собрании» посвященном 20-летию со дня основания Американского института физики.
Свое выступление мне, очевидно, следует начать с определения, что такое физика. Американский институт физики сформулировал уже это определение, и, выступая в таком месте, просто неприлично использовать какую-нибудь другую дефиницию. Это, собственно говоря, определение того, что такое «физик», но понять из него, что такое «физика», тоже очень легко. Выслушайте это определение.
«Физиком является тот, кто использует свое образование и опыт для изучения и практического применения взаимодействий между материей и энергией в области механики, акустики, оптики, тепла, электричества, магнетизма, излучения, атомной структуры и ядерных явлений».
Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, что это определение рассчитано на людей, которым знакомо понятие «энергия». Но даже для столь просвещенной аудитории это определение явно недостаточно продумано.
Действительно, человек, знакомый с понятием энергии, вспомнит, по-видимому, уравнение Е=mс2, с помощью которого он овладел тайной атомной бомбы, и это уравнение само будет поистине атомной бомбой для цитированного определения. Ибо в определении подразумевается, что материя четко отличается от энергии, а приведенное уравнение это начисто опровергает. Оно пробуждает в нас желание переиначить определение и сказать, что физик – это тот, кто занимается взаимодействием энергии с энергией, а это звучит уже совсем нелепо.
Далее в определении говорится об «изучении и практическом применении», что явно носит отзвук ставшего классическим противопоставления чистой физики физике прикладной. Давайте поглубже рассмотрим это противопоставление. Прежде всего попробуем четко определить различие между чистой и прикладной физикой.
Обычно считается, что «чистый физик» интересуется приборами и механизмами лишь постольку, поскольку они иллюстрируют физические законы, а «прикладной физик» интересуется физическими законами лишь постольку, поскольку они объясняют работу приборов и механизмов. Преподаватель физики объясняет ученикам устройство динамомашины чтобы они поняли, что такое законы Фарадея, а преподаватель электротехники излагает ученикам законы Фарадея, чтобы они поняли, что такое динамо-машина. «Чистый физик» совершенствует свои приборы только для того, чтобы расширить наши знания о природе. «Прикладной физик» создает свои приборы для любой цели, кроме расширения наших знаний о природе.
С этой точки зрения Резерфорд был «прикладным физиком» на заре своей карьеры, когда он пытался изобрести радио, и стал «чистым физиком», когда бросил эти попытки, а Лоуренс был «чистым физиком», пока изобретенные им циклотроны не начали использоваться для производства изотопов, а изотопы – применяться в медицине. После этого Лоуренс «лишился касты». Уже из этих примеров ясно, что наше определение следует считать в высшей степени экстремистским, и надо быть фанатиком, чтобы отстаивать такую крайнюю позицию. Это станет совсем очевидным, если мы рассмотрим аналогичную ситуацию в искусстве.
Возьмем, например, музыку. Композитора, создающего симфонии, мы, очевидно, должны считать «чистым музыкантом», а композитора, сочиняющего танцевальную музыку, – «музыкантом прикладным». Но любой дирижер симфонического оркестра знает, что слушатели не станут возражать, а даже будут очень довольны, если он исполнит что-нибудь из произведений Иоганна Штрауса и Мануэля де Фалья. Сам Рихард Вагнер сказал, что единствецная цель его музыки – усилить либретто; следовательно, он «прикладной» музыкант. Еще сложнее дело обстоит с Чайковским, который всю жизнь был «чистым» музыкантом и оставался им еще пятьдесят лет после смерти, пока звучная тема одного из его фортепьянных концертов не была переделана в танец под названием «Этой ночью мы любим».
Обратимся к живописи и скульптуре. Назовем «чистым» художником того, чьи картины висят в музеях, а «прикладным» того, чьи произведения украшают жилище. Тогда Моне и Ренуар – прикладные художники для тех, кто может себе позволить заплатить двадцать тысяч долларов за картину. Для остальных грешных, в том числе и для нас с вами, они чистые художники. Я не уверен только, к какой категории отнести портретиста, за исключением, пожалуй, того случая, когда его картина называется, «Портрет мужчины» и висит в музее, – тогда он, несомненно, чистый художник. Я уверен, что многие современные живописцы ждут, что я отнесу к чистым художникам тех, чьи произведения ни на что не похожи и никому не понятны, а всех остальных – к прикладным. Среди физиков такое тоже встречается.
Законченный пример прикладного искусства, казалось бы, должна являть собой архитектура. Однако отметим, что существует такое течение, которое называется «функционализм»; сторонники его стоят на том, что все части здания должны соответствовать своему назначению и служить необходимыми деталями общей конструкции. Само существование такой доктрины говорит о том, что есть строения, имеющие детали, в которых конструкция здания вообще не нуждается и без которых вполне могла бы обойтись. Это очевидно для всякого, кто видел лепной карниз. Теневая сторона этой доктрины заключается в том, что она запрещает наслаждаться зрелищем величественного готического собора до тех пор, пока инженер с логарифмической линейкой в руках не докажет вам, что здание рухнет, если вы удалите хоть какую нибудь из этих изящных арок и воздушных подпорок. А как быть с витражами? Они:
а) функциональны (способствуют созданию мистического настроения и как-никак это окна),
б) декоративны (нравятся туристам),
в) антифункциональны (задерживают свет).
Первая точка зрения принадлежит художникам, создавшим окна собора в Шартре, вторую разделяют гиды, а третьей придерживались в восемнадцатом столетии прихожане, которые выбили эти окна, чтоб улучшить освещение, и забросили драгоценные осколки в мусорные ямы.
Итак, в соборе нелегко отделить функциональное от декоративного. Но так и в науке. И если некоторые тончайшие черты в облике готических соборов обязаны своим происхождением тому простому факту, что тогда в распоряжении зодчих не было стальных балок, а современные строители, в распоряжении которых эти балки есть возводят здания, которым таинственным образом не хватает чего-то, что нам нравится в древних соборах, то аналогии этому мы можем найти, сравнивая классическую физику с теориями наших дней…
Попробуем заменить названия «чистая» и «прикладная» физика словами «декоративная» и «функциональная». Но это тоже плохо. Прикладная физика – либо физика, либо не физика. В первом случае в словосочетании «прикладная физика» следует отбросить прилагательное, во втором – существительное. Архитектура остается архитектурой независимо от того, создает она здание Организации Объединенных Наций или Сент-Шапель. Музыка есть музыка – в венском вальсе и в органном хорале, а живопись и в портретном жанре, и в пейзажном – все живопись. И физика есть физика – объясняет ли она устройство телевизора или спектр гелия.
Однако различие в действительности должно быть все-таки больше, чем я склонен был признать до сих пор, поскольку люди постоянно твердят о «фундаментальных исследованиях», предполагая, таким образом, существование чего-то противоположного, «нефундаментального». Хорошее определение «фундаментального исследования» все будут приветствовать. Попробуем изобрести его.
Начать следует, разумеется, с определения, что такое исследование. К несчастью, понятие это содержит в себе негативный элемент. Исследование – это поиски, когда вы не знаете, что найдете; а если вы знаете, значит уже нашли, и вашу деятельность нельзя назвать исследовательской. Но если результат ваших исследовании неизвестен, откуда вы знаете, что он будет фундаментальным?
Чтобы выйти из этого тупика, попытаемся отнести понятие фундаментальности не к конечному результату исследований, а к самому процессу исследования. Мы можем, например, назвать фундаментальными такие исследования, которые ведутся независимо от того, будут ли результаты иметь практическое значение или не будут. Между прочим, здесь не следует перегибать палку. Было бы неблагоразумно определять фундаментальные исследования, как такие исследования, которые прекращаются, как только появляются признаки того, что результаты могут быть применены на практике. Такая концепция рискует навлечь на себя гнев финансирующих организаций. Но даже самого трудного и скаредного финансиста можно ублажить, сказав, что фундаментальные исследования – это те, которые не дают немедленного практического выхода, но наверняка дадут таковой рано или поздно.
Увы, и это определение не вполне удовлетворительно. Оно оставляет впечатление, что вы перед кем то оправдываетесь, а это уже признак вины. Неужели нельзя определить фундаментальное исследование так, чтобы оно представляло ценность само по себе, без всякой связи с будущими практическими приложениями?
Назовем фундаментальными такие исследования, которые расширяют и продвигают теорию физических явлений. Следовательно, нам придется немного по теоретизировать насчет теории.
Существует несколько точек зрения на теорию. Одна из них состоит в том, что теория раскрывает нам глубинную простоту и стройность мироздания. Не теоретик видит лишь бессмысленное нагромождение явлений. Когда он становится теоретиком, явления укладываются в стройную и исполненную величия систему. Но, к сожалению, в последнее время благодаря квантовой механике и теории поля все большее число людей, выбирая из двух зол меньшее, нагромождение явлений предпочитают нагромождению теорий.
Другую точку зрения высказал недавно Кондон. Он полагает, что теория должна дать нам возможность рассчитать результат эксперимента за более короткое время, чем понадобится для проведения самого эксперимента. Не соглашаться с Кондоном опасно, так как обычно он оказывается прав; но я не думаю, что это определение приятно теоретикам; они обрекаются, таким образом, на бесконечную игру в салочки, которую заведомо проиграют в таких, например, случаях, как при установлении сопротивления серебряного провода или длины волны некоторой линии в спектре германия.
Согласно другой точке зрения, теория должна служить для придумывания новых экспериментов. Здесь есть разумное начало, но это низводит теоретика до положения служанки экспериментатора, а эта роль ему вряд ли понравится.
Есть еще одна точка зрения, что теория должна охлаждать горячие головы и не допускать потери времени на бесполезные эксперименты. Я предполагаю, что только изучение законов термодинамики пресекло некоторые попытки создать поистине невозможные тепловые двигатели.
Давайте польстим теории и дадим ей определение, которое не будет сводить ее ни к хитроумному приспособлению для экономии времени, ни к прислуге эксперимента. Предлагаю считать, что теория—это интеллектуальный собор, воздвигнутый, если хотите, во славу божию и приносящий глубокое удовлетворение как архитектору, так и зрителю. Я не стану называть теорию отражением действительности. Слово «действительность» пугает меня, поскольку я подозреваю, что философы знают точно, что оно значит, а я не знаю и могу сказать что-нибудь такое, что их обидит. Но сказать, что теория – вещь красивая, я не постесняюсь, поскольку красота– дело вкуса, и тут я философов не боюсь. Разовьем нашу аналогии» с собором.
Средневековые соборы никогда не бывали закончены строительством. Это же можно сказать и про физические теории. То деньги кончались, то архитектурная мода менялась. В последнем случае старая часть собора иногда разрушалась, a иногда к ней просто пристраивалась новая. Можно найти строгие и массивные римские хоры в мирном соседстве с парящей готической аркой, которая близка к границе опасной неустойчивости. Римские хоры – это классическая физика, а готическая арка – квантовая механика. Я напомню вам, что арка собора в Бовэ обрушивалась дважды (или даже трижды), прежде чем архитекторы пересмотрели свои планы и построили нечто, способное не упасть. Собор состоит обычно из нескольких часовен. Часовня физики твердого тела имеет лишь самое отдаленное отношение к часовне теории относительности, а часовня акустики вообще никак не связана с часовней физики элементарных частиц. Люди, молящиеся в одной из часовен вполне могут обходиться «без остальной части собора; их часовня может устоять, даже если все остальное здание рухнет. Сам собор может казаться величественным даже тем, кто не верит в бога, да и тем, кто построил бы совсем другое здание, будь он в состоянии начать все сначала.
Остаток своей речи я хочу посвятить совсем другому вопросу. Мы восхищаемся нашим величественным собором. Как заразить молодежь этим восхищением? Как заманить в физику будущих ферми, кондонов, слэтеров?
Обычный в этих случаях метод – удивить, потрясти. Беда в том, что человека нельзя удивить, если он не знаком с той ситуацией, в которую ваш сюрприз вносит решающие изменения. Не так давно я прочел, что некто проплыл 100 ярдов за 49 секунд. Это совершенно меня не удивило, потому что я не знал, чему равнялся старый рекорд -39, 59 или 99 секундам. Но я читал дальше и обнаружил, что старый рекорд составлял 51 секунду и держался в течение нескольких лет. Первое сообщение теперь пробудило во мне слабый интерес – едва отличный от нуля, но по-прежнему никакого удивления! Теперь представьте себе физика, меня, например, который пытается удивить аудиторию, состоящую из дилетантов, сообщением о том, что сейчас вместо двух элементарных частиц мы знаем целую дюжину или что олово совсем не оказывает сопротивления электрическому току при температурах ниже некоторой, а новейший циклотрон разгоняет протоны до энергии 500 Мэв. Ну и что? Это просто не дает эффекта! И если я оснащу свое сообщение экстравагантными утверждениями, это произведет не больше впечатления, чем размахивание руками и крики лектора перед глухонемой аудиторией.
Ошибочно также мнение, что аудиторию можно потрясти, продемонстрировав решение какой-нибудь загадки. Беда здесь в том, что никто не заинтересуется ответом на вопрос, которого он не задавал. Автор детективных рассказов всегда создает тайну, прежде чем ее решать. Можно было бы последовать его примеру, но труп неизвестного человека, с которого обычно начинается детектив, – зрелище существенно более захватывающее, чем труп известной теории, с которого должен начать физик.
Другой способ: можно пообещать любому вступающему в наш собор, что там он найдет удовлетворение своему стремлению к чему-то неизменному, постоянному, вечному и бессмертному. Это фундаментальное стремление, поскольку оно постоянно фигурирует в произведениях мистиков, поэтов, философов и ученых. Лукреций считал, что он удовлетворил это желание, сказав, что атомы вечны. Это была прекрасная идея, но, к несчастью, Лукреций понятия не имел о том, что такое атомы. Представлениям древних об атомах ближе всего соответствуют, по-видимому, наши элементарные частицы, но – какая неудача! – ни один из членов этого беспокойного и таинственного семейства не является бессмертным, пожалуй, за исключением протона, но и его бессмертие висит на волоске: как только где-нибудь поблизости появится антипротон, он в самоубийственном столкновении сразу же прикончит соседа. Наши предшественники столетиями пытались найти этот «вечный атом», и теперь, докопавшись до того, что они считали гранитной скалой, мы обнаружили, что по-прежнему стоим на зыбучем песке. Так будем ли мы продолжать говорить о величии и простоте нашей картины мира? Величие, пожалуй, но простота, которая была очевидна Ньютону и Лапласу, – простота ушла вдогонку за «вечным атомом» Лукреция. Ее нет, она утонула в волнах квантовой механики. Я подозреваю, что в каждой отрасли физики можно показать новичку хорошую, поучительную и соблазнительную картину – только если не пытаться копать слишком глубоко.